30 лет за партой: как изменилось школьное образование в Украине за время независимости
И что необходимо наверстать
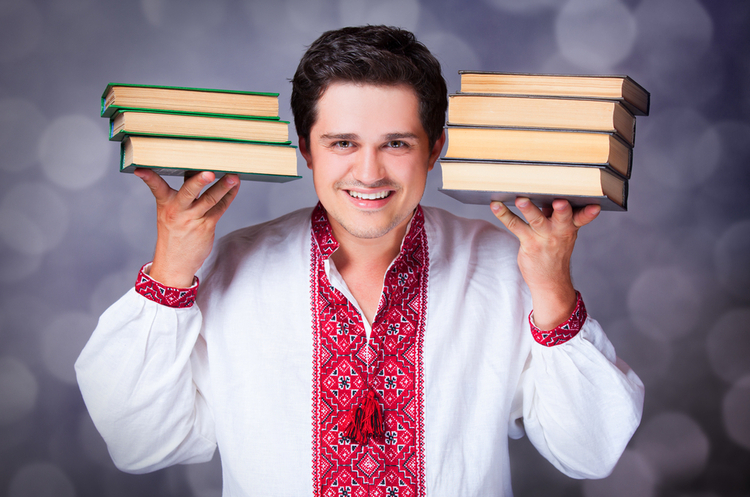
2018 Украина впервые приняла участие в Международном исследовании качества образования PISA. Несмотря на активные соревнования украинских школьников на международных олимпиадах по разным предметам, исследование того, насколько 15-летние ученики способны использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни, показало неутешительные результаты: только 36% достигли базового уровня математической грамотности и 26,4% – естественно-математической. А в этом году процент участников, не преодолевших порог «сдал/не сдал» ВНО по математике, составил 31,11%.
Что же произошло с образованием в стране за 30 лет, и что привело к таким результатам?
Реформы на старте

Фото: depositphotos.com
Система образования в украинской школе до сих пор остается классно-урочной, которой создал ее еще Ян Амос Каменский в XVII веке. Что тогда, что сейчас, в классах-аудиториях стоят столы, к классу приходит учитель, опрашивает и рассказывает новую тему по своему предмету. А отличие классов в XVII и XXI веков заключается разве что в количестве людей за партами и в многообразии материально-технического антуража.
Зато в сфере ожидаемых от процесса результатов наконец медленно и со скрипом начинаются системные изменения. С начала двухтысячных Украина подхватила общемировой тренд, озвученный ЮНЕСКО, который предлагает пересмотреть содержание обучения и эффект от него.
Утвержденная в 2011 году «Национальная рамка квалификаций» (по которой каждый уровень, начиная от завершения дошкольного образования, описан спектром компетенций), а за ней в 2017-м – Закон «Об образовании», который закрепил понятие «компетентностного обучения» в противовес чисто знаниевого, стали первыми шагами существенных изменений в украинском образовании.
Как ни странно, мы были далеко не последними в этой реформе: проект «Определение и отбор компетенций» Организации экономического сотрудничества и развития был начат в 2005 году, а один из первопроходцев – Северная Ирландия – перешла на государственный компетентностный курикулум только в 2007 году.
На 2021 год мы имеем уже два обновленных государственных стандарта: начального (2016) и среднего образования (2020), а также новый Закон «Об общем среднем образовании». Результат обучения описывается теперь в категориях «умеет», «использует», «справляется с проблемами» и не измеряется знанием формул или фактов. Более того, активно разрабатывается система не бального, а формировочного оценивания; в начальной школе введены «Свидетельства достижений», в которых вместо математики или чтения оценивается прогресс в принятии решений или установлении связей между событиями.
По государственному стандарту, результаты обучения определены в нескольких областях: математической, естественной, языковой, технологической и других. И пока между преподавателями одной отрасли ведутся дискуссии о том, как правильно распределять часы ранее отдельных дисциплин, некоторые отрасли, хотя и описанные наравне с другими, имеют явно меньше вариантов реализации.
Так, гражданская, социальная, культурная компетенции и, например, предприимчивость, чаще всего, нарабатываются в пределах исключительно занятий по истории или искусству, зато компетенции, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, инициативностью, готовностью брать ответственность за собственные решения точно не получится сформировать во время пассивного прослушивания лекций. А форматы внешкольного взаимодействия, которые могли бы способствовать овладению такими компетенциями, используются лишь в незначительной доле школ, в которых развита демократическая система самоуправления учеников.
Вместе с тем, внешкольная и воспитательная деятельность, в большинстве, осталась в тех же формах, что и в советское время, только с измененными знаками. Вкупе со слишком медленными темпами формулирования и проведения реформ, это создает ощущение, что система работает по старинке, но на последнем дыхании.

Фото: depositphotos.com
На самом деле, этому есть два вполне справедливых объяснения. Во-первых, по данным Госстата, в 2019–2020 учебных годах в Украине работало более 30 000 учебных заведений (от дошкольного до высшего), а в них – более 700 000 педагогов. Такой огромный объем системы просто-таки гарантирует ее неповоротливость и медлительность любых изменений, какие бы реформы не внедрялись на государственном уровне.
Во-вторых, на реформы банально не хватает денег. Например, для реализации концепции НУШ ( «Новая Украинская Школа»), которая начата в 2016 году и теперь охватывает обучение только в начальной школе, а со следующего учебного года запускает пилотные реализации 5-го класса, в классах рекомендуют обустроить игровые зоны, установить одиночные парты и проекционные доски, на что не хватает денег, а в случае с досками – еще и умений преподавателей.
Для решения финансовой проблемы с 2015 года началось внедрение образовательной субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты (по Концепции реформирования местного самоуправления и организации власти в Украине). Несмотря на то, что этот механизм имеет ряд ограничений и сложностей при реализации, в последние годы увеличивается доля местных налогов и создаются территориальные общины (1002 на 2019 год), которые постепенно развивают образовательные сети: по состоянию на 2018 год в Украине было создано 519 опорных школ, а общины организуют подвоз с помощью школьных автобусов для тех учеников и преподавателей, которые живут далеко от опорной школы.
Параллельно с 2020 года началось реформирование профильной школы, реализация которого намечена с 2027 года. Оно предусматривает развитие сети учебных заведений для 10–12 классов. После базовой школы (гимназии) ученики смогут продолжить академическое обучение в старшей профильной школе – лицее, или получить профессиональное образование в колледже. Этот раздел также синхронизирован с международным опытом, но вызывает сопротивление сообщества родителей и учеников, преимущественно из-за особенностей реализации: сокращение школ с 10–12 классами произошло раньше, чем насыщение образовательной сети достаточным количеством профильных школ. Кроме того, условия и механизм вступления в такие школы еще в процессе разработки, а значит, следующие несколько лет нас ждет шквал из непоследовательных управленческих решений и их непродуманных реализаций на местах.
Испытание долгой «дистанцией»

Фото: depositphotos.com
В 2019 году к названным «болезням роста» добавилась необходимость срочно реагировать на вызовы локдауна. Запуская в 2020 году «Уроки на телевидении», МОН пыталось решить проблему всей страны: государственные школы в регионах оказались не готовы к качественному внедрению дистанционного обучения, ведь 49,6% из 4053 опрошенных ОО «Про.Свит» преподавателей отметили, что ранее не использовали технологии дистанционного обучения в своей педагогической деятельности.
Более того: по результатам аналитического обзора «Здоровье и образование: как пандемия COVID-19 повлияла на доступ к публичным услугам в Украине», в некоторых регионах ученики вообще не имели возможности учиться – как, например, в горном районе Ивано-Франковской области , где 13 178 учеников не имели доступа к интернету. А исследования Института будущего показало, что 77% респондентов считают, что из-за перехода на дистанционное обучение его качество ощутимо снизилось.
Вместе с тем, в стране давно сложился устойчивый запрос на дистанционную, семейную и экстернатную формы обучения, которые все чаще становятся заменой очной, начиная с первых классов. Параллельно, в ответ на запрос, возникают школы для годовой аттестации, курсы дистанционного обучения и новые альтернативные школы.
Кроме того, семейная и экстернатная формы обучения ранее были чуть ли не единственными вариантами для детей с ограниченными возможностями. В 2009 году Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, с 2012-го законодательно закрепила позицию ассистента при ребенке с особыми потребностями, а с 2017 года из государственного бюджета начали выделять субвенцию на инклюзивное образование и создавать инклюзивно-ресурсные центры.
На практике же проблем хватает: обучение остается недоступным для маломобильных учеников – оборудованы пандусами только 27,4% высших учебных заведений и 8,4% заведений профессионально-технического образования; технических средств для проведения учебной деятельности нет, специалистов – тоже. Эти проблемы часто списывают на недофинансирование, однако, на самом деле, большую проблему составляет искаженное понимание инклюзии у участников процесса, что вызывает многочисленные конфликты.

Фото: depositphotos.com
Относительно финансирования в целом, то в 2017–2019 годы правительство выделяло около 6% ВВП на финансирование образовательной сферы, что составляло примерно 17% от общих расходов сводного бюджета Украины. Из них почти половину направили на финансирование среднего образования, четверть – высшего. В процентах это даже выше, чем у стран-соседей, имеющих иное качество образования, например – в Польше. Поэтому звучит тезис о реформах в финансировании, чтобы не тратить средства на институты, времена которых давно прошли, вроде Академии педагогических наук.
Реформа децентрализации частично оптимизирует процессы финансирования: например, в 2018-2020 годах дошкольное, профессиональное и внешкольное образование финансировались преимущественно из местных бюджетов. Однако местные бюджеты и территориальные общины, которыми занимаются, становятся перед вопросом существенной разницы в потребностях финансирования городских и сельских школ: стоимость обучения одного ученика в 2020 году расчетно составила 19 000 грн в городах и до 32 000 в сельской местности, прежде всего, из-за расходов, связанных с небольшим количеством детей в классах.
А за деньги: дорого не равно качественно

Фото: depositphotos.com
Из-за неопределенности с программами, недостатка финансирования и непонятных большинству реформ, образование последние годы выглядит привлекательной идеей для бизнеса. Сети частных школ постепенно охватывают областные центры, а в больших городах уже чувствуется серьезная конкуренция. Сейчас лидером по росту сектора частного школьного образования является Киев, где в 2019 году процент частных школ составлял 11%. Всего же в рамках страны их пока всего 2% (от общего количества – 14 873 заведений) – почти 300, и учится там 1,2% учеников.
Перед учредителями частных школ стоят вопросы не только создания концепции школы, разработки методической базы, закупки современного оборудования, но и коммуникации с потенциальными клиентами, ведь несмотря на повышение спроса на частное образование его преимущества еще необходимо доказывать. С другой стороны, вопрос ценообразования в каждом учебном заведении решается по-своему: кто-то включает дополнительные услуги, от посещения бассейна до поездок за границу, в оплату, а кто-то берет деньги исключительно за посещение занятий.
Кроме чисто технических вопросов остается еще пласт вопросов этических. Развитие образования как бизнеса связано с определенным конфликтом интересов – улучшение качества обучения требует увеличения расходов, что может уменьшить рентабельность бизнеса, а долговременные инвестиции в нашей стране не слишком популярны. Если государство, по официальным данным 2019 года, в среднем тратило на обучение одного ученика 23 108 грн в год, то стоимость частной школы для родителей по стране составляет от 10 000 до 30 000 грн в месяц.

Фото: depositphotos.com
Конечно, это ставит еще один острый вопрос: коррелирует ли стоимость такого обучения с его качеством? Несмотря на введение в законодательное поле понятия «образовательная услуга», механизмов для определения ее качества пока разработано недостаточно: отсутствует система внешнего тестирования, кроме вступительного ВНО, как не существует и системы соотнесения программ различных школ. Поэтому родителям остается выбирать на свой страх и риск, доверяя примерно одинаковой формулировке предложений на сайтах и официальных страницах школ в социальных сетях.
В общем, увеличение доли частного образования в Украине соответствует общемировому тренду. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития,частные школы в разных странах имеют больший, чем в государственном секторе, выбор форм и методов обучения, большее количество преподавателей на учащихся класса, современное оборудование.
Появление же большого количества альтернативных школ указывает на украинский тренд последних 10 лет: поиск других форм обучения, отвечающих ожиданиям относительно результатов. Организаторы альтернативных школ и родители, которые их выбирают, меняют в учебном процессе определенные элементы: методику преподавания предмета, количество учеников в группе, подход или график занятий, а дети получают аттестацию в лицензированных школах-партнерах.
Финиш видно, бежать некому

Фото: depositphotos.com
Частные и альтернативные школы пугают государственную систему образования – и не тем, что могут «сманивать учеников», а возможностью перекупать кадры, с которыми в государстве есть серьезная проблема. Причем перекупать не только благодаря большей зарплате, но и существенно более широким возможностям для профессиональной реализации. Обычно эти школы испытывают и создают новые роли педагогов: ассистент преподавателя, тьютор, ментор; разрабатывают отдельные учебные программы для педагогов (например, Международная академия тьюторинга) и поддерживают международные программы обмена и обучения.
К тому же, по обновленному Закону «Об образовании», учебные заведения получили расширенные права автономии и могут самостоятельно решать вопрос в академических (образовательных), организационных, финансовых, кадровых и других сферах деятельности. Помимо прочего, это означает, что учебное заведение может утверждать собственную программу. Предоставление образовательной автономии заведениям повлекло за собой целый системный сдвиг, который выражается, например, в создании системы обеспечения качества образования – соответственно с кардинально другими подходами и механизмами.
Несмотря на то, что механизм аккредитации программ дорабатывается прямо сейчас, желающих воспользоваться такой автономией в государственных школах пока немного. Разработать и утвердить собственную программу – это вам не провести привычное занятие по «спущенному сверху» поурочному планированию. Это требует времени: и собственно на разработку, и на подготовку соответствующего уровня специалистов.
Второе – настоящая проблема, наравне с недостаточным финансированием тормозящая и без того медленные реформы. Кризис со специалистами прогнозирует едва ли не каждый знаток по вопросам образования. Госстат подтверждает негативную тенденцию уменьшения общего количества педагогических работников на 6,4% в 2019/20 году по сравнению с 2014/15) при увеличении доли педагогических работников возрастной категории 60 лет на 40,9% за тот же промежуток времени.

Фото: depositphotos.com
В приказе МОН «Об утверждении Концепции развития педагогического образования» определены планы по разработке современной модели педагогической профессии и трансформации высшего и профессионального образования. Реализовать эти шаги собирались за 2019-2021 годы, но это оказалось слишком оптимистично. Между тем процент трудоустройства в учреждения образования по завершению профильного вуза постоянно уменьшается и сейчас составляет только 18,2% – и на самом деле это очень низкий показатель эффективности потраченных средств.
Главная проблема – что педагогический вуз абитуриенты выбирают из соображений, которые мало связаны с последующей педагогической деятельностью: здесь и общежития доступны, и проходной балл ниже, и никаких дополнительных сложных требований нет. В отличие от, например, Франции, где перед вступлением, чтобы быть уверенным, что выбор педагогической сферы деятельности не случаен, приходится более 20 недель провести в школе на расширенной педагогической практике в рамках курса «Введение в профессию учителя», – и только потом абитуриент получит разрешение сдать тест на профпригодность и вступать в педвуз.
И, кажется, только первоочередное решение кадровой проблемы сможет дать ответ на вопрос, когда же образовательные реформы в Украине будут реализованы и дадут настоящие результаты.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].





