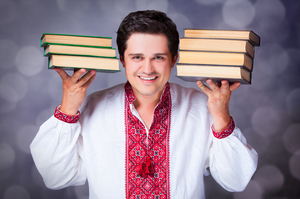Директор Всемирной академии искусства и науки: «Мы до сих пор используем образовательную систему ХI века»
Гарри Джейкобс – о будущем образования и влиянии человеческого капитала на экономический рост страны

Гарри Джейкобс – американский писатель, исследователь и бизнес-консультант в сферах, связанных с экономическим и социальным развитием, образованием и глобальным управлением.
Сейчас Джейкобс занимает пост главного исполнительного директора Всемирной академии искусства и науки (World Academy of Art & Science и является главным редактором журнала в сфере экономики, образования, международной безопасности и глобального управления Cadmus Journal. Кроме того, он является полноправным членом Римского клуба, международной неправительственной организации, объединяющей ученых, общественных деятелей и деловых людей для решения актуальных проблем современности.
Гарри Джейкобс будет выступать с докладом на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), который пройдет 5–6 октября. Накануне его визита в Киев Mind побеседовал с господином Джейкобсом на тему будущего образования и влияния человеческого капитала на экономический рост.
– Вы провели много исследований в Индии, которая сейчас является второй по населенности страной мира. Как это сказалось на вашем понимании влияния человеческого капитала на экономический рост государства?
– Я наблюдаю за Индией уже на протяжении 46 лет, еще с 1971 года. Видел, как она развивалась с позиции отсталой страны: от «зеленой» революции, которая закончилась в 70-х, до IT-революции, которая началась в 80-х. Я работал в сфере занятости в Индии над широким спектром стратегий для ускорения развития страны. Я американец, поэтому большая доля моего опыта – это понимание, что позволило США так стремительно расти, но Индия – это совсем другой контекст.
Когда я приехал на КМЭФ впервые, я отметил, что развитие в первую очередь касается не денег, технологий или инвестиций. На самом деле это вопрос высвобождения энергии общества – как индивидуальности, так и организаций, чтобы они были более продуктивными и креативными. И в центре моего внимания было изучение условий, которые для этого нужны.
Я бизнес-консультант и работал со многими компаниями в США, Европе и Азии. И когда я имею дело с представителем компании или правительственным чиновником, у меня один и тот же подход: у общества есть неограниченный потенциал возможностей, которые мы не используем, и наша задача понять, что нужно для того, чтобы ими воспользоваться.
Я вхожу в состав Международной экономической группы, состоящей из 50 ярких личностей со всего мира. Точкой отсчета для нашей деятельности является тот факт, что современная экономическая система не способствует максимизации использования возможностей. В мире есть миллионы, даже миллиарды людей, потребности которых не удовлетворены. Сотни миллионов людей не имеют возможности использовать свои способности и навыки – у них нет работы. У нас есть примерно $250 трлн в виде глобальных финансовых активов, но только 15% инвестировано в реальную экономику. И вся моя работа на микроуровне в компаниях или на макроуровне в странах сводится к тому, чтобы понять, как высвободить общественную энергию и дать людям возможность работать эффективнее.
В 1985 году я провел исследование по заказу премьер-министра Индии, касающееся экспорта программного обеспечения. В то время индийский рынок составлял примерно $100 млн, сейчас – более $100 млрд. Правительство не вкладывало огромные средства в развитие, и секрет даже не во внешних инвестициях: в Индии сформировалось общественное движение, которое распространяло осведомленность о том, как развить человеческий потенциал с помощью нескольких практических стратегий. Мне кажется, что развитие по такому сценарию вполне возможно и в Украине.
Украина жила под гнетом советской коммунистической системы, Индия – страдала от британской колониальной, которая была одинаково репрессивной в отношении если не индивидуальной свободы, то экономического и социального развития. Здесь можно провести интересные параллели между двумя странами.
– Поскольку вы работали над глобальными возможностями высвобождения человеческого потенциала для экономического роста, можете ли вы поделиться своим видением самых больших проблем образовательной сферы, которая является неотъемлемой частью этого процесса?
– Позвольте мне начать с количественной стороны этого вопроса и перейти к качественной. Если мы хотим обеспечить качественное доступное высшее образование для всей молодежи, которая хотела бы его получить в течение следующих 15–20 лет, нам нужно, по подсчетам UNESCO, открывать новый университет размером с Гарвард каждые пять-семь дней. Но на создание таких университетов, как Гарвард, Оксфорд или Кембридж пошли сотни лет! И даже если бы нам это удалось, то американская система высшего образования чрезвычайно дорогая и отнимает много времени. Поэтому я думаю, что образовательная система в равной степени сама является как проблемой, так и решением проблемы. Нам нужно расширить доступ к обучению, но нужна совсем другая модель, чтобы достичь максимальных результатов.
Когда речь заходит о качестве образования, большинство думает о баллах, которые учебное заведение набирает в тесте PISA, либо рейтинге вузов, либо о том, сколько статей написано или патентов зарегистрировано в институте. Но я думаю, что все это имеет очень мало общего с качеством образования. Поэтому когда я говорю о качестве образования, имею в виду совсем другую парадигму, которая имеет много измерений.
Во-первых, мы до сих пор используем образовательную систему ХI века, которая возникла в Болонском университете, который был первым европейским университетом современного типа. Мы до сих пор собираем студентов в одном месте, чтобы они слушали лекции. Эта система была создана за 300–400 лет до того, как изобрели печатную машинку. До газет, телевизора, интернета и других средств доступа к информации. И мы до сих пор используем эту систему.
Многие исследования доказывают, что это наименее эффективная система из всех. Долгосрочное запоминание от прослушивания лекций составляет 5%. Если мы читаем книгу – до 10%, если обсуждаем материал с другими – до 25%, если задействованы в проекте – до 50%, но больше всего – когда обучаем других. Поэтому современная система больше рассчитана на преподавателей, а не на учащихся. Нам нужно перейти от пассивного потребления информации к активному обучению. Это не новая идея, но ее время пришло.
Один мой знакомый ученый, исследовавший Украину, по возвращении рассказал, что у вас очень большая перегрузка лекциями, потому что преподаватели получают зарплату за количество часов преподавания.
Вторая проблема заключается в том, чему именно учат в школах. Сам я родом из Напы (Калифорния), и 18 лет назад местные власти захотела улучшить бизнес-климат в городе. Они собрали 20 IТ-компаний и провели серию фокус-групп, чтобы понять, что можно изменить в лучшую сторону. Самым интересным открытием стало то, что мы обучаем учеников 12 лет в школе работать самостоятельно и конкурировать с другими учениками, но когда они приходят на работу, они почти никогда не работают изолированно, и нужный им навык – это умение работать и учиться в команде. И американская образовательная система с треском проваливается в предоставлении необходимой подготовки. Образование воспринимается больше как передача теоретических знаний, вместо развития фактических навыков, необходимых для применения этих знаний, – навыков по решению проблем, менеджменту, общению с клиентами, межличностных, аналитических, социальных навыков.
К тому же, по словам HR компании Google, когда они берут людей на работу, то их оценки в вузе не имеют никакого значения при приеме на работу или для дальнейшего карьерного роста, потому что оценки никак не отражают истинных способностей этого человека.
Поэтому в Напе создали новую программу для старших классов: ученики работают в группах из четырех человек и обучают друг друга. А учителя не читают лекций, а фасилитируют процесс и побуждают учеников проектировать знания на свою жизнь. Это переход от пассивного конкурирующего индивидуального метода обучения к активному коллаборативному и интерактивному. И результаты оказались настолько потрясающими, что уже 62 школы переняли что-то вроде этой системы.
Сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам взять лучших экспертов мира в каждой области, записать видеолекции, затем перевести их на все языки мира и предоставить студентам в удобной для них форме. А за университетами можно оставить задачу стимулировать мышление, учиться применять полученные знания и общаться с другими людьми.
Сейчас университеты задаются вопросом, где взять больше студентов, так как беби-бум на Западе закончился, или как выбить больше финансирования из правительства. Но все это неправильные вопросы.
Когда вы изучаете человеческое тело, то вам рассказывают об органах дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой, нервной системах, костях и т. д. Но если перед вами настоящее тело, то эти системы не существуют отдельно. Это интегрированный организм, в котором все объединено. С экономикой то же самое. Экономика не существует без политики, законов, культуры и психологии людей, окружающей среды. Последние 200 лет экономисты были обеспокоены влиянием на экологию. И это проблема нашего образования и образа мышления – мы «расчленяем» реальность на мелкие части.
Я не говорю, что у нас только куча проблем, – у нас есть множество возможностей сделать что-то иначе.
Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.
Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.
Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!
Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].