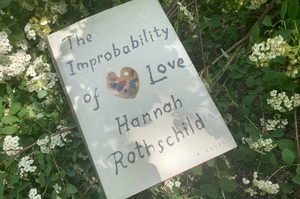Шевченко «на коне»: как образ Кобзаря зашифровали на картинах XIX века
Черты поэта можно угадать на полотнах его друга Платона Бориспольца
Накануне «Шевченковских дней» (9–10 марта) традиционно повышается общественное внимание к личности Тараса Шевченко. Последний месяц, в связи с резонансной выставкой «Квантовый скачок Шевченко. Метро», в информационном пространстве активно обсуждается вопрос: насколько свободно можно трактовать образ Тараса в искусстве? С вопросом трактовки художественного образа Великого Кобзаря определенным образом было связано событие, которое 6 марта состоялось в Национальном заповеднике «София Киевская».

Праправнучка художника П. Бориспольца – Марина Борисполец делится впечатлениями от отреставрированной картины «Проповедь апостола Андрея» с журналистами
В этот день в музее «Андреевская церковь» представителям СМИ была продемонстрирована картина украинского художника Платона Бориспольца «Проповедь апостола Андрея». В 1867 году она была подарена Андреевской церкви, и ровно 150 лет полотно провисело на западной стене в южной части трансепта храма. В 2017-м его впервые сняли со стены с целью проведения реставрационных работ, а в канун празднования 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко – вернули на историческое место.
Время для официального представления отреставрированного полотна было выбрано неслучайно.
Представьте себе друга, с которым вы вместе планировали бы поехать за границу с целью обучения. Или друга, к чьим родителям можно спокойно зайти в гости «на чашку чая» в его отсутствие. Представили? Именно таким другом для Тараса Шевченко был художник Платон Борисполец, с которым они сдружились во время учебы в Петербургской академии художеств.
Уроженец городка Гоголев (ныне – с. Гоголев Броварского р-на Киевской обл.), Платон Борисполец мог сделать блестящую карьеру военного. Талантливый выпускник 2-го Петербургского кадетского корпуса пользовался протекцией Великого князя Михаила Павловича и готовился к морскому путешествию в свите другой венценосной особы – Великого князя Константина Николаевича Романова. Впрочем, страстная любовь к живописи заставила Бориспольца отказаться от преференций офицера и перспективы в дальнейшем занять «теплое место». В 1839 году в чине подполковника он уволился со службы и полностью посвятил себя искусству – был зачислен на обучение в класс Карла Брюллова Петербургской академии художеств. Кстати, в этом же классе учился и Шевченко.
Для того чтобы не перегружать уважаемого читателя обстоятельствами биографии художника (довольно яркой самом деле), приведу только один интересный факт, созвучный названию этой статьи. Был у Платона Тимофеевича конь арабской крови, но... с неожиданным именем. «Красивый конь, прозванный Васькой, доставляя удовольствие своему господину, пользовался полным его расположением и был для него неизменным другом; иногда бегая на свободе, умное животное являлось на зов хозяина и лакомилось из рук его сахаром. В минуты недостатка Платон Тимофеевич говаривал: только бы Васька был сыт, а я-то ничего! Когда же довелось этому художнику ехать на свой счет за границу, он проливал слезы по своем коне, отдавая его на попечение своему брату. Этот же Васька послужил художнику превосходной моделью в картине его «Александр Македонский усмиряет Буцефала», за которую он надеялся получить большую золотую медаль от Академии; но зрелые года лишили его этого права на эту награду. В горячем порыве увидеть Рим, Борисполец серьезно собирался ехать туда на беговых дорожках, на своем Ваське…» – отмечал в своих воспоминаниях друг Бориспольца художник Николай Рамазанов.
В 1843 году мечта Платона Бориспольца таки осуществилась: он уехал на Запад – в Европу. Выехал для того, чтобы в созерцании шедевров живописи прошлого усовершенствовать свое мастерство. Выехал сам. Без коня Васьки. И без друга Шевченко.
«Ездили ли вы с Бориспольцем на белом коне к чужеземцам?», – спрашивали у Тараса. Нет, не ездил. Не судьба. Тарасу выпал путь ехать в совершенно другом направлении – на восток, в ссылку. В 1847 году Шевченко был арестован за членство в знаменитом Кирилло-Мефодиевском обществе. Его обвинили в написании стихов на «малороссийском языке», с которыми «могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о вымышленном блаженстве времен Гетманщины, о счастье вернуть эти времена и о возможности Украины существовать как отдельному государству».

Платон Борисполец. Проповедь апостола Андрея. Холст, масло. 1847 г.
В том же году в далеком Париже Платон Борисполец пишет свое величественное полотно «Проповедь апостола Андрея». Размеры картины до сих пор впечатляют – 15 кв. м! Бесспорно, художник возлагал на нее большие надежды. Буквально в канун презентации отреставрированного полотна в музее «Андреевская церковь» в парижском каталоге живописи за 1847 год нам удалось найти запись, которая проливает свет на цель его написания:
«Господин Борисполец стал жертвой жюри. Он представил большую картину «Святой Андрей внедряет христианство на Руси». Члены жюри, греки в полной мере этого слова, пренебрегли ею, потому что художник наивно полагал, что во Франции разрешено изображать русских похожими на русских, а не на римлян или греков. Беда в том, что господин Борисполец приехал из-за границы и незнаком с обычаями, заведенными в Академии».
Как видим, в 1847 году Борисполец написал эту картину для представления ее в Парижской академии искусств на конкурсной основе. Однако художник претерпел громкое фиаско из-за предоставления полотну яркого национального колорита. Вот только не российского, а украинского.
Действительно, девушка на переднем плане, протягивающая руку апостолу, одета в клетчатую юбку (элемент традиционного украинского женского наряда), в ее косу вплетена голубая лента. Также обращает на себя внимание воин в римском шлеме, который помогает Андрею установить крест. Его внешность напоминает традиционный и всем хорошо знакомый образ казака с пышными усами. Таким образом Платон Борисполец стремился подчеркнуть, что пророчество апостола Андрея о возникновении в будущем Киева как мощного центра мирового христианства было произнесено в I в. н. е. на землях Украины. Определенным образом Борисполец, так же как и Шевченко, в 1847 году пострадал за любовь к родной земле.
Но стоит присмотреться к полотну внимательнее. Некоторые исследователи считают, что на нем присутствует портретное изображение Тараса Шевченко – на коне! Мол, таким образом Платон Борисполец выразил солидарность с собратом, который был осужден именно в год написания этого полотна. Давайте поищем Шевченко на картине Платона Бориспольца вместе.
В центре полотна мы видим седобородого апостола, правой рукой благословляющего днепровские холмы, а левой – поддерживающего крест. Рядом с ним – ученик с большой книгой в руках. Он так же, как и апостол, одет в античную тогу. Воин в шлеме легионера помогает установить гигантский крест на днепровских холмах. Итак, перед нами Первозванный апостол и его окружение. Они прибыли издалека – об этом определенно «говорит» их одежда.
И вдруг в затянутом свинцовыми тучами небе появляется просвет, через который солнечные лучи падают на крест и, как бы отражаясь от него, «проливаются» на группу людей с элементами украинской национальной одежды. Они представлены в левой нижней части полотна (мужчина, две женщины, маленькие мальчик и девочка). Седовласый мужчина упал на землю.
Свет... Падение на землю... Обращение к вере Христовой... Вам это ничего не напоминает? Именно так титаны европейской живописи изображали обращения «апостола язычников» Павла (Савла) по дороге в Дамаск. Мы должны помнить, что в Западную Европу (Францию и Италию) Платон Борисполец приехал именно с целью впитывать достижения европейской живописи. На наш взгляд, этот сюжет был ему знаком.

Микеланджело де Караваджо. Обращение Савла. Холст, масло. 1601 г.

Франческо Пармиджанино. Обращение Савла. Холст, масло. Ок. 1528 г.
Музей истории искусств. Вена (Австрия)
Но есть на холсте персонаж, который будто находится вне сюжета. Это человек на коне, «скрытый» в полумраке в левой части картины. Этот всадник не входит в окружение апостола, в то же время он не «освещен» словами его проповеди. Создается впечатление, что он существует в совершенно другом времени, не в событиях I в. н. е., которым посвящен сюжет картины Бориспольца. Всадник как бы символизирует что-то личное для автора полотна.
Черты лица всадника многим напоминают Тараса Шевченко. А кому-то не напоминают. Каждый посетитель музея «Андреевская церковь» сможет для себя лично решить этот вопрос после завершения реставрации храма.

Платон Борисполец.
Измученный всадник на черном коне – в темноте в левом углу картины. Он внимательно смотрит на седовласого апостола Андрея, который поднял правую руку для благословения, и на его ученика, принявшего от апостола огромную книгу. Всадник словно говорит:
«...я лечу в века давно минувшие и вижу его, седовласого, уважаемого, смиренного старца; с писаной большой книгой в руках, он проповедует удивленным дикарям своим и кровожадным, корыстным поклонникам Одина. Как ты прекрасен был в этой ризе смирения и любомудрия, святой мой и незабываемый старик!
И мы поняли твои короткие глаголы, и тебя, как старого и ненужного учителя, не выгнали, не забыли, а одели тебя как Горыню-богатыря, в крепкий панцирь.
Сначала мы очерствили твое сердце междоусобицами, кровосмешением и братоубийством, сделали из тебя настоящего варяга, а потом уже одели в доспехи и поставили охранять порабощенное племя и пришельцами поруганную, самим Богом завещанную тебе святыню».
Это – слова Тараса Шевченко об апостоле Андрее Первозванном. Они были написаны в 1855 году в Новопетровском укреплении (современный Казахстан) во время пребывания поэта в ссылке...

Авторы материалов OpenMind, как правило, внешние эксперты и специалисты, которые готовят материал по заказу редакции. Но их точка зрения может не совпадать с точкой зрения редакции Mind.
В то же время редакция несёт ответственность за достоверность и соответствие реальности изложенной мысли, в частности, осуществляет факт-чекинг приведенных утверждений и первичную проверку автора.
Mind также тщательно выбирает темы и колонки, которые могут быть опубликованы в разделе OpenMind, и обрабатывает их в соответствии со стандартами редакции.